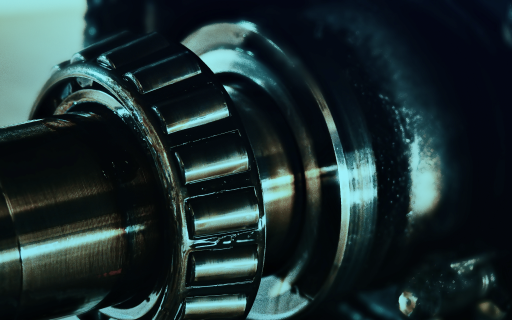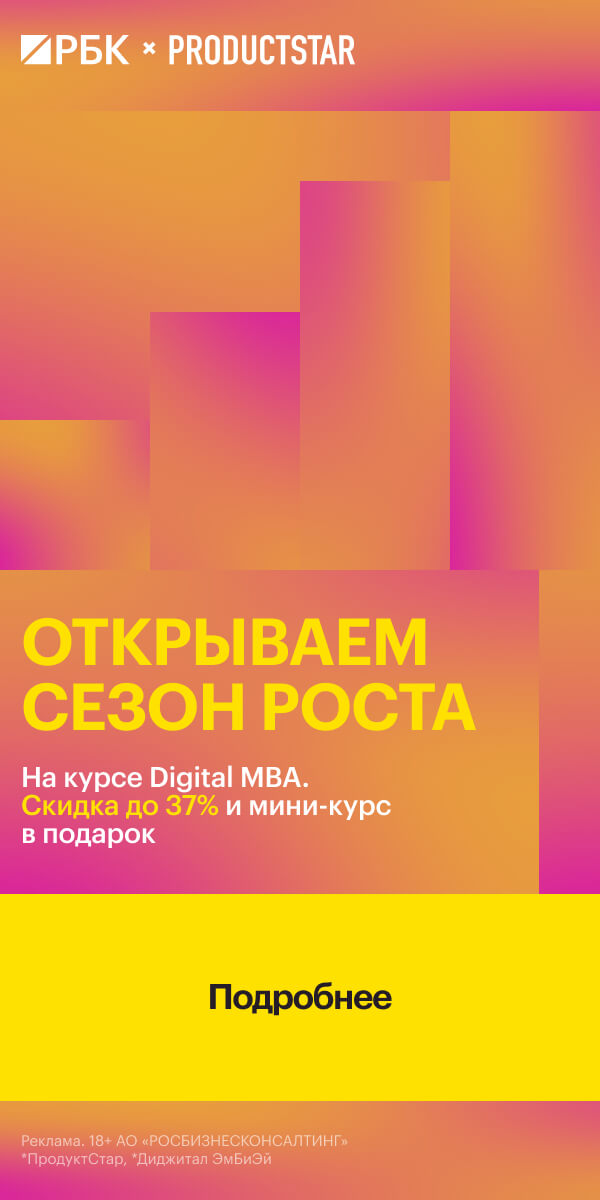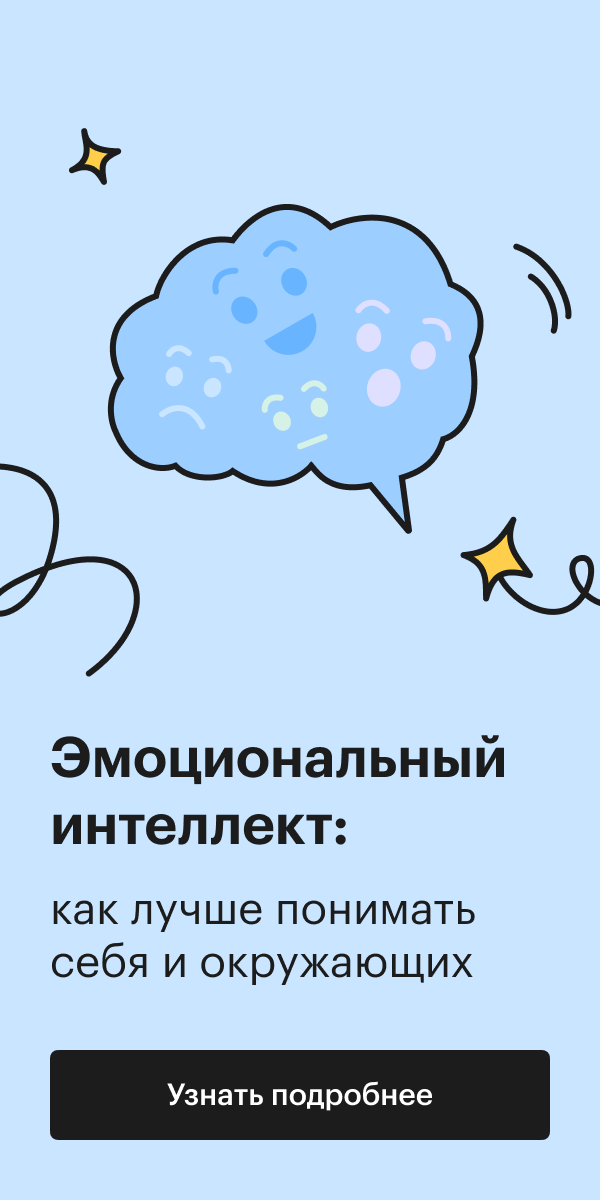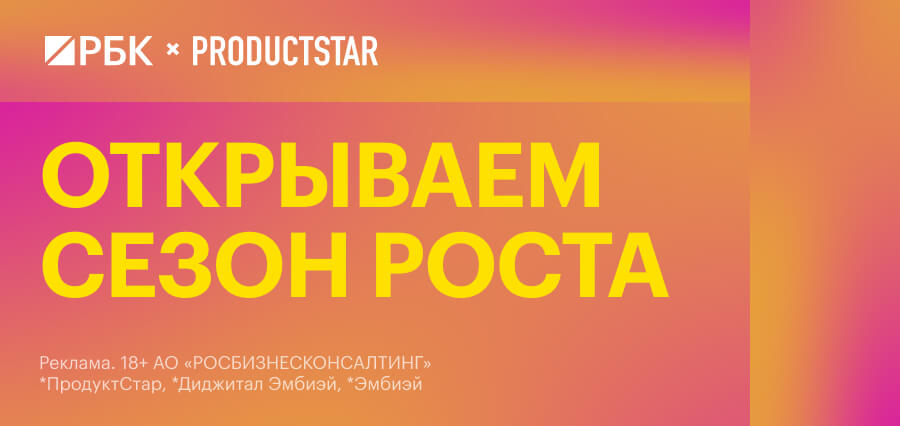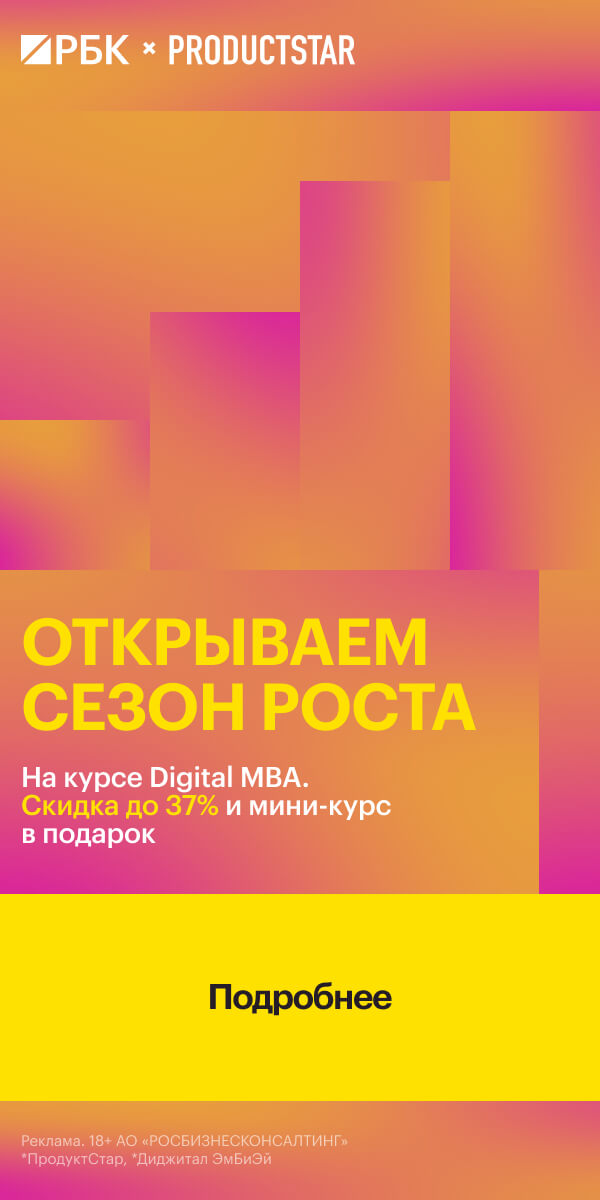Глава Минвостокразвития: «Не согласен, что ресурсы — это плохо»

Содержание:
- На каких условиях должны появляться новые проекты в Арктике
- Как выглядит «идеальный инвестор» для Арктики и Дальнего Востока
- Об Арктическом инвестиционном фонде
- О перспективах отрасли редкоземельных металлов
- Как персонал - «руки» или «мозги» - нужен на Дальнем Востоке
- Про роль Китая и ее инвесторов
- Про дефицит флота
- О результатах Сахалинского эксперимента
- О финансовой модели города-спутника
- При каких условиях бизнес вернется к инвестированию
«Нужны инвесторы, которые помогают капитализировать наш рынок»
— Арктика стала частью обсуждения в ходе российско-американских переговоров, в частности в Саудовской Аравии в феврале. О каких совместных проектах России и США на этой территории может идти речь?
— Мы с Соединенными Штатами являемся двумя крупнейшими арктическими государствами и ведущими игроками энергетического рынка. Арктика — это крупнейшая в мире, но еще не полностью введенная в разработку кладовая ценных энергетических ресурсов. Поэтому естественным образом потенциал для совместного сотрудничества прорисовывается в сферах добычи и транспортировки углеводородов, удобрений, цветных, драгоценных, редкоземельных металлов.
Отдельной темой может стать переработка газа, поскольку у нас на северо-западном и западном направлениях сейчас образовался избыток, который добывается в Арктике и не уходит в Европу. Исторически монетизация газа — это была всегда либо экспортная труба, либо внутренний рынок. Но в последние пару лет пришло осознание того, что газ — это энергия. А в мире сегодня самый большой и растущий дефицит — это спрос на энергию для вычислений, то есть для развития искусственного интеллекта, технологий блокчейна. Приведу пример: Microsoft недавно заплатила около $1,6 млрд за расконсервацию старой атомной электростанции (речь идет о проекте в Пенсильвании: в интересах корпорации вновь введут в строй один из закрытых после аварии в 1979 году энергоблоков; после восстановления, в 2028-м, Microsoft будет закупать энергию по цене значительно ниже рыночной. — РБК). То есть крупный IT-бизнес идет на беспрецедентные инвестиции для того, чтобы обеспечить себя источниками энергии.
Это те потенциальные темы, в которых может быть сотрудничество с США. Но, безусловно, держа в уме, что на этих же рынках мы являемся конкурентами. Поэтому нужно не повторять ошибок прошлого — я имею в виду заключенные еще в 1990-х годах соглашения о разделе продукции, а вести сотрудничество на таких принципах, чтобы был и трансфер технологий, и сохранение контроля российской стороной над этими активами.
— На каких условиях вы бы такие сделки строили? Какие риски должны закладываться?
— Этот путь пройден многими странами до нас. Что интересно инвестору? Либо большой рынок, либо большой ресурс. Россия занимает четвертое место в мире по паритету покупательной способности, но у нас все же не 1,5 млрд человек населения, как в Китае. Их основной ресурс — дешевая рабочая сила, которую они капитализировали идеально. Volkswagen, например, открыл свой завод в Шанхае в 1985 году. За последующие 40 лет китайцы научились делать все, что умеет Volkswagen, приумножили это и сейчас на рынке электромобилей уже забивают им в одни ворота. Немцы только и устают караул кричать. Я считаю, что это хороший пример допуска иностранного инвестора на свой рынок — трансфер технологий, обязательное получение практик, ноу-хау, в том числе и управленческих, а также по доступу к фондовому рынку.
У нас же сейчас только ленивый не жалуется на высокую ключевую ставку, при этом мало говорят о капитализации фондового рынка. У нас капитализация фондового рынка к ВВП составляет 30%, в Саудовской Аравии — более 300%, в Иране — более 300%. Причем Иран путь от нашего уровня до своего прошел за десять лет путем приватизации, листингов, за счет привлечения народного капитала и т.д.
Высокая капитализация в Саудовской Аравии получилась за счет размещения Saudi Aramco, которая сразу стала одной из самых больших компаний в мире и помогла привлечь инвесторов. Россия может поставить себе такую стратегическую цель, и это значит, что мы добавляем более триллиона долларов акционерной стоимости. Такой прирост стоимости послужит сильным магнитом для любых мировых инвесторов.
Поэтому нам нужны такие иностранные инвесторы, которые помогают капитализировать наш рынок, помогают осваивать необходимые технологии и позволяют в здоровом взаимодействии быть конкурентоспособными на мировом рынке.
— Можете описать портрет идеального инвестора для Арктики и Дальнего Востока?
— Они очень похожи, и я не стал бы их сильно разделять. Есть примеры из нашей же истории. Мне нравится, как Советский Союз работал в свое время с Ford в 1930-е годы — получился ГАЗ. И с Fiat в 1960-е — получился ВАЗ. Мы создали целые отрасли — машиностроение, автомобилестроение, химическая отрасль, металлургия, радиоэлектроника и т.д. — благодаря приходу иностранных технологий, которые на тот момент опережали наличествующие в Советском Союзе. Сейчас у нас уже есть своя инженерная школа и глубокие компетенции в самой важной на сегодня отрасли экономики — это IT. Причем IT в контексте сложного программирования. То, чего сейчас многие боятся, — искусственный интеллект заменит программистов — это не про нас. Наш козырь — это как раз уникальная «творческая» работа в программировании. И на основании этого знания можно довольно быстро совершить прорыв в целом ряде отраслей. У нас здесь, с одной стороны, не такой глубокий рынок стартапов и IT-компаний, которые могли бы предложить интересную работу самым лучшим. Это плохо, потому что некоторые уезжают. Но, с другой стороны, это возможность в любой отрасли сразу делать что-то насыщенное. Это как сотовая связь приходила в страны, где не было проводной связи, и была поговорка from no phones to cell phones. Вот то же самое — от отсутствия каких-то отраслей промышленности сразу к высокоавтоматизированным и высокоцифровизированным сферам.
— Без отмены каких форм санкций нельзя будет выстраивать дальнейший диалог? Любые переговоры — это компромиссы. На какие компромиссы в экономическом плане может пойти Россия при создании новой модели взаимодействия с Америкой?
— Во-первых, не надо стесняться, что крупные инвесторы приходят в Россию для совместной разработки крупных ресурсных проектов. Наоборот, это наша сила. Если IT-компанию или потребительское производство можно сделать где угодно в мире — где дешевле рабочая сила или лучше логистическая инфраструктура, то добывать золото или производить СПГ можно только там, где они есть. Во-вторых, если говорить про компромиссы и отмену санкций... Наверное, слишком радоваться санкциям и хлопать в ладоши некорректно, но нельзя отрицать тот факт, что они сделали нас сильнее. Они сконцентрировали усилия бизнеса и позволили импортозамещению пройти по целому ряду продукции быстрее, чем это было бы при открытом рынке. Произошла естественная защитная реакция нашей экономики.
Если говорить про США, то на примере антироссийских санкций они сами наступили на довольно приличные грабли. Эти грабли называются — подрыв позиций доллара как мировой резервной валюты. И сейчас у них довольно много ученых, экономистов, регуляторов смотрят на данные — долю доллара в международных расчетах и резервах — и бьют тревогу, потому что тренд нисходящий. А свято место пусто не бывает. Я слышал неглупую теорию о том, что сейчас активная поддержка американцами криптовалют связана с тем, что это дериватив доллара: они таким образом создают спрос на американский доллар. Потому что если страны отказываются от американского госдолга и если сами американцы не дают странам рассчитываться в долларах, то торговая практика смещается в сторону каких-то других валют. А зачем назад возвращаться?
Ни для кого не секрет, что новые расчетные механизмы, которые мы были вынуждены в последние пару лет создать, в ряде случаев сделали торговлю дороже. Но везде, где дороже, есть сверхмаржа, которая привлекает бизнес, бизнес начинает работать эффективнее, банки находят новые механизмы, новые IT-платформы создаются... В итоге конечная цена становится меньше. Долларовая система расчетов многие десятилетия пользовалась монопольной позицией. Взять хотя бы дуополию Visa и Mastercard. Очень дорогие, ненужные, честно говоря, потребителю способы расплачиваться: каждый раз, когда человек касается пластиковой карточкой терминала, платить кому-то в Америке 2% — это абсурд. То есть как раз это и есть монопольная рента. И вот те санкционные ограничения, которые против нас были введены, и об этом открыто говорили, — это был некий полигон. Но эти же санкции начинали отдавать рикошетом по их авторам. Поэтому я думаю, что как раз санкции, связанные с международными расчетами, будут первыми в очереди на смягчение.
«Должны политические решения быть приняты для того, чтобы фонд заработал»
— На фоне переговоров с США также было объявлено о создании Арктического инвестиционного фонда. Как он будет работать? Определены ли какие-то параметры?
— Любой инвестиционный фонд хорош настолько, насколько хороший у него портфель перспективных проектов. Потому что, действительно, проведя первые 20 лет своей карьеры в инвестициях, я усвоил одно правило: под хороший проект всегда найдутся деньги. Структурировать хороший проект, найти его, чтобы были все составляющие — и актив, и рынок, и тайминг, и команда, — это магия. Для того чтобы эта магия случилась в Арктике, у нас есть Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, которая уже десять лет является «одним окном» для любого инвестора и у которой на сопровождении 3,4 тыс. инвестиционных проектов общим объемом 11 трлн руб. Мы знаем их бизнес-планы, отслеживаем ежеквартальные финансовые отчеты, знаем их проблемы, помогаем им находить финансирование, технологических партнеров, заниматься экспортом, удовлетворять кадровую потребность и т.д. Мы, как никто, все знаем про инвестиционный потенциал этих территорий.
Что может быть интересного для Арктического фонда? Мы сразу с РФПИ стали вместе заниматься портфелем проектов. Считаю, что перспективные, интересные проекты для развития — это газохимия, переработка газа в химические элементы (метанол, карбамид, полимеры). То есть это поставка на мировой рынок продукции переработки природного газа с высокой добавленной стоимостью. Хорошие примеры таких проектов — «Тобольск-Полимер» или Амурский газохимический комплекс.
Часто звучит тема редкоземельных металлов, но я был бы здесь осторожным. Это стратегический товар, но далеко не весь инвестиционно прибыльный. Когда вам нужно чего-то считаные граммы на изделие, а чтобы выкопать это, нужно пригонять БЕЛАЗы и ворочать миллионы тонн руды, это не всегда так же выгодно, как добывать медь, золото или серебро.
Должны политические решения быть приняты для того, чтобы фонд полноценно заработал. Нельзя сказать, что уже сейчас есть целая толпа иностранных инвесторов, которые хотят в него вкладываться. Сейчас идет подготовительный этап для работы фонда. Он будет основан на принципах соинвестирования, и, безусловно, мы будем предлагать проекты, в которые могут быть приглашены иностранные инвесторы.
— По данным Минпромторга, Россия по-прежнему на 75% зависит от импорта редкоземельных металлов. Мы правильно вас поняли, что коммерчески не очень целесообразно сейчас разрабатывать эти месторождения без иностранных инвестиций или компетенций?
— Во-первых, у правительства есть конкретный план по развитию отрасли редкоземельных металлов, согласно которому к 2030 году должны быть созданы десять новых предприятий и импортозависимость уменьшена с 75 до 48%. Это разумный и реалистичный план на пятилетку. Но их мало добыть, их нужно выделить. Там металлы, каждый из которых требует целого НИИ для того, чтобы выделить их в товарных количествах, необходимых для авиакосмической отрасли, радиоэлектроники, оборонки, электромобилей и прочего. Некоторые из них становятся коммерчески выгодными. Прежде всего те, которые связаны с энергетикой, электричеством. Их нужно много. Но есть и такие металлы, которые используются в уникальных спутниках, их нужно мало, поэтому не совсем целесообразно их добывать и выделять... Это требует больших инвестиций.
«Нам еще предстоит нащупать свой особый путь»
— Еще несколько лет назад общим местом было экономическое отставание Дальнего Востока от прочих федеральных округов, которое было особенно заметно на фоне богатейших природных ресурсов этого макрорегиона. Есть ли у вас объективные данные, уменьшилось ли это отставание? Например, рейтинговое агентство АКРА летом 2024 года утверждало, что полезный отпуск электроэнергии на Дальнем Востоке (по сути, объем производственного спроса на электроэнергию) растет наиболее значительно, что указывает на «стремительный экономический рост» ДФО.
— По объему инвестиций в основной капитал мы росли за десятилетие в 2,5 раза быстрее, чем страна в среднем. Добыча полезных ископаемых — в три раза. По темпам энергопотребления за десять лет мы выросли в три раза больше, чем Россия. Примерно по 5% в год добавляем энергопотребление.
Такой рост создает определенные узкие места. Мы сейчас в активном взаимодействии с Минэнерго на тему создания новых энергогенерирующих мощностей. Дальний Восток — громадный, 40% территории страны, но большая его часть находится на изолированной труднодоступной территории. А электроэнергия нужна там, где, например, ресурсы или логистические маршруты. Поэтому принята Генеральная схема размещения объектов электрогенерации до 2042 года (предусматривает, в частности, строительство пяти АЭС в Якутии, Приморье, на Чукотке, в Амурской области и Хабаровском крае. — РБК).
Интенсивный рост создает давление на кадровый рынок, на рынок зарплат. На Дальнем Востоке зарплаты всегда были несколько выше, чем в среднем по стране, но сейчас они у резидентов ТОРов выше уже на 40%. Это хорошо с социальной точки зрения, мы это приветствуем, но, конечно, одновременно это сказывается на себестоимости продукции, которую мы производим. У нас 150 тыс. рабочих мест, которые нужно заполнить до 2030 года по проектам, которые у нас уже заявились. И думаю, что нам не обойтись без определенного импорта рабочей силы.
— Откуда?
— Есть даже и экзотические варианты. Вот у нас индийские труженики поехали на некоторые проекты, неплохо работают.
— А какой все же персонал нужен — это условно «руки» или «мозги»?
— Это как в мультике: «Ноги, крылья... Главное — хвост!» В экономике четыре фактора производства: труд, капитал, ресурсы и волшебный фактор — предпринимательский, который все вышесказанное объединяет. Я уже высказывался на эту тему, в РБК, — нам еще предстоит нащупать свой особый путь. Есть китайская предпринимательская модель — симбиоз командирских решений государства по созданию инфраструктуры и поддержке привилегированных отраслей и целой армии частного бизнеса, нацеленного на экспорт. Многие не замечают этой армии, а это 30 млн компаний... То есть это реально армия бизнеса, во главе которой стоят генералы государственных корпораций. Я думаю, что-то похожее должно сложиться у нас, потому что одними силами только частного бизнеса такую экономику, как Россия, не раскрутить, ее содержать очень сложно. За счет того, что мы самая большая страна в мире, есть особенности хозяйствования, где роль государства невозможно уменьшить.
Поэтому вопрос — руки или мозги... Без мозгов, наверное, и руки не нужны. Но и в мозгах еще происходит донастройка, выработка модели партнерства государства и бизнеса. Я думаю, что мы как раз, пережив момент разрыва с Западом и отхода от западных моделей управления и финансирования, довольно быстро создадим что-то свое. Крупные компании перехватывают целые отрасли, и эти компании должны быть эффективны, должны конкурировать не только на внутреннем рынке. И в этой конкуренции они должны стать достаточно сильными. Посмотрите на наших лидеров, например на «Норникель», «Полюс», наши нефтегазовые компании. Они — компании мирового уровня, которые быстро осваивают необходимые технологии. Были крики три года назад: «А как же мы будем бурить? Будут ли у нас технологии?» Всё есть. Однажды я приехал на предприятие, в которое вкладываются сотни миллиардов рублей, огромный завод. Там был поставлен комплект очень дорогого оборудования. Поставлен, но даже не распечатан: инженеры иностранные не приехали, программисты не настроили. Так один из инженеров завода позвонил, как у нас часто бывает, брату — программисту. Тот приехал с командой, они месяц с завода не выходили, но все настроили, завод запустили. И таких примеров, их масса.
«У Китая есть арктические амбиции»
— Если Арктика звучит в контексте интереса с американской стороны, то Дальний Восток — это была ориентация на Китай. Как возможное расширение сотрудничества России с США в Арктике может сказаться на взаимоотношениях с Китаем, на грузопотоки из которого в том числе был расчет по заполняемости Северного морского пути (СМП)?
— Статистически у нас Китай занимает первое место по количеству иностранных инвестиций среди инвесторов всех территорий опережающего развития. Но если смотреть структуру инвестиций, подавляющая доля — это инвестиции китайской Sinopec (ей принадлежит 40% в проекте Амурского газохимического комплекса, остальное у «Сибура». — РБК). Если очистить от этой инвестиции, то результаты пока достаточно скромные. Но иногда проходит длительное время, когда накопление идет небыстро, и наступает точка перелома. Я думаю, что такой точкой вполне можно считать открытие наших новых трансграничных переходов. Два моста уже созданы: железнодорожный Нижнеленинское — Тунцзян и автомобильный Благовещенск — Хэйхэ. Сейчас всерьез обсуждается создание железнодорожного перехода Джалинда — Мохэ. Создан зерновой терминал в Забайкальске (входит в ГК НСЗК. — РБК).
По моему ощущению, как раз такие земные, а не мегапроекты воодушевляют средние бизнесы из Китая, которые в масштабах нашей дальневосточной экономики выглядят крупными. Они долго запрягают, правда. Приведу пример: у нас на протяжении почти десяти лет работает «дочка» структур китайской корпорации Legend Holdings, которая занимается продовольствием. Они тихой сапой по всему миру скупают премиальные продовольственные бизнесы — тунец в Чили, фрукты в Южной Америке... У нас они зашли в Приморье, взяли пару тысяч гектар, посмотрели, как работает (имеется в виду ГК «Легендагро» — это российско-китайский вертикально интегрированный агрохолдинг, включающий растениеводство, глубокую переработку масличных, трейдинг и логистику. — РБК). Прошу прощения за цинизм, но их подход — это некая разведка боем. У них есть финансовый ресурс, исчисляемый десятками миллиардов долларов, доступ к кредитам под пару процентов годовых, но они не спешат. И это нормально. Это здоровый подход, реальное участие в рынке, а не по принципу — как наскочил, так и отскочил.
Кстати, традиционно Приморье и Сахалин сотрудничали и с Кореей, и с Японией, и их я бы тоже не списывал со счетов. На уровне малого и среднего бизнеса сотрудничество никогда и не прекращалось.
— Но не все китайские инвесторы продолжают работать с Россией на фоне санкций. Летом 2024-го китайская Wison New Energies отказалась от строительства трех корпусов плавучего энергоблока (ПЭБ) для Баимского ГОКа на Дальнем Востоке. Как будет решена эта проблема?
— Китай до сих пор называют «фабрикой мира», и они являются абсолютно экспортно ориентированной страной. И, конечно, их частный бизнес оказался довольно чувствителен к санкциям, боится потерять европейские и американские рынки. В связи с этим действительно ряд партнеров не устояли. Но свято место пусто не бывает. Те же ПЭБы будут произведены в срок.
— Структуры «Росатома» будут строить их самостоятельно? Сдвига сроков не будет?
— ПЭБы производятся. Сдвига сроков не должно быть.
— В конце 2024 года глава республики Айсен Николаев объявил о переносе ввода первой якутской АЭС с 2028-го на 2030 год. По какой причине перенесен срок ввода первой малой АЭС?
— Это не перенос, а это удлинение срока из-за того, что прогнозный спрос оказался выше, чем 55 МВт. Губернатор Якутии обратился, чтобы построили не один блок, а два. Они будут питать Кючусский золоторудный кластер и другие месторождения. В результате корректировки получится 110 МВт.
Вообще тема АЭС малой мощности состоит из двух частей. Первая — это стационарные блоки, которые являются перспективными для наших изолированных районов, месторождений, хотя пока это все-таки довольно дорогое решение. Но есть еще и плавучие блоки — такой уже работает на Чукотке, и четыре строятся для Баимского ГОКа. Это потенциальный хит мировой энергетики, потому что много людей в мире живут на берегу моря, на берегу океана. У них будет возможность пригнать 50–100 МВт, а перезаряжать такую станцию нужно один раз в десять лет. CAPEX на создание пока высокий, но спрос исчисляется гигаваттами.
— Как вы видите роль СМП при взаимодействии с Китаем?
— СМП обречен на то, чтобы им пользовались. Но это непростой путь: нам еще пару лет назад приходилось вызывать туда ледоколы и вызволять застрявшие суда. Не хочется повторять героический подвиг челюскинцев.
Поэтому ледокольное прикрытие нам необходимо. Для этого созданы уже четыре новых атомных ледокола, еще четыре будут созданы в ближайшие четыре года. Крупные компании, которые реализуют проекты в Арктике, все озабочены вопросом создания флота ледового класса. Потому что, чтобы возить СПГ, нефть, концентраты руд, генеральные грузы, нужны суда ледового класса, желательно Arc7.
У Китая есть арктические амбиции, есть амбиции по созданию судов ледового класса. У них мощнейшая судостроительная отрасль и естественная мотивация, которая связана с хеджированием рисков геополитической напряженности в Южно-Китайском море. Весь экспорт-импорт Китая сейчас происходит через море, которое при определенных негативных сценариях может стать ареной противостояния. И поэтому для них СМП важен как альтернативный маршрут.
Но я бы сфокусировался на том, что СМП в первую очередь нужен не Китаю, не США. Он больше всего нужен нам. У нас в Арктику уже инвестируется 35 трлн руб. Такие проекты, как «Восток Ойл», «Арктик СПГ», Баимская рудная зона, — они создают тот грузопоток, для которого нужен СМП. Ни «Роснефть», ни НОВАТЭК, ни «Норникель» не скажут: «Мы пошутили, вложили 30 трлн руб., но вывозить не будем». Все это будет вывезено. Когда при вывозе всех этих товаров судоходство по СМП достигнет критической массы, когда станет выгодно, безопасно и привычно, — начнут ввозить и генеральные грузы, и контейнеры. И я думаю, мы увидим грузопоток 100 млн т по СМП на горизонте пяти-шести лет от сегодняшнего дня. А на горизонте десяти лет увидим и 200 млн т. В коридоре от 100 млн до 200 млн т это будет уже привычный международный транспортный маршрут. И Китай, кстати, тоже быстро развернет часть своих морских потоков на Европу через СМП.
— Ваше министерство ранее изучало вопрос о перспективности транспортировки рыбы по Северному морскому пути за счет субсидирования такой перевозки. К каким выводам вы пришли?
— Задачи специально возить именно рыбу по СМП нет. Была просьба рыбаков: раз вы субсидируете контейнеры, отсубсидируйте нам тоже специальные суда, рефрижераторы, и мы тогда повезем рыбу через СМП (речь идет о каботажных перевозках между портами Санкт-Петербург, Мурманск, Архангельск и регионами Дальнего Востока; каждый год на субсидирование таких перевозок из федерального бюджета выделяется по 560 млн руб. — РБК). Но это было не про то, что «хотим идти по СМП», это было про «хотим субсидии». Но мы сказали нет. На пике эксперимента в контейнерах ехало всего 6 тыс. т рыбы. Для сравнения: по железной дороге с Дальнего Востока вывозят 700 тыс. т рыбы. То есть везти рыбу по СМП ради того, чтобы на ней была наклейка «Перевезено по СМП», мне кажется, не совсем рационально.
— Откуда под эти планы брать флот? Вы наверняка анализировали планы Объединенной судостроительной корпорации. Насколько они реалистичны и закрывают потребности?
— Нам точно не хватит тех верфей, которые сегодня есть и задуманы для того, чтобы до 2035 года построить флот ледового класса. И мы в том числе должны будем заказывать танкеры, в первую очередь нефтяные и газовозы. Просто потому, что речь идет примерно о 100 судах. В этом смысле это хорошая возможность для кооперации с судостроителями из дружественных стран. Может быть, для частичного производства там, а финальной сборки — у нас. Здесь большая роль самих заказчиков: когда взяты кредиты, в проекты вложены миллиарды долларов, нужно вывозить произведенный товар, возвращать деньги. И, чтобы что-то осталось на прибыль, люди энергично работают. Наши нефтяные и газовые компании не останутся без флота.
— Какая доля российского экспорта сейчас отправляется через границы именно Дальнего Востока? На каком уровне и с какой динамикой осуществляются отгрузки российской нефти и нефтепродуктов на экспорт через дальневосточные порты? Заметно ли, по вашим данным, сокращение экспортных поставок угля?
— Сейчас более 70% внешнеторгового оборота через дальневосточные пункты пропуска приходится на морские порты — 152,9 млн из 208,6 млн т в 2024 году. Интенсивный рост товарооборота — через автомобильные пункты пропуска, 44% за 2024 год. Железнодорожные тоже выросли на 12% к прошлому году.
По углю небольшой рост даже за 2024 год. Экспортные поставки угля из ДФО в 2024 году составили 61,6 млн т (+0,7 млн т) на фоне сокращения в целом по РФ на 34 млн т — до 168 млн. Кризис в угольной отрасли сейчас является острой темой. Причина — ценовой цикл. Три года назад цена была в три раза выше текущей. Целый ряд проектов, особенно низкокалорийный уголь, стал просто убыточным. Для того чтобы сохранить рабочие места и не закрывать предприятия, государство субсидирует тарифы на перевозку, в первую очередь для того, чтобы уголь выезжал. Но у нас сильные компании, кризис — это повод для сильных устоять и стать еще сильнее. Я верю, что такие компании, как СУЭК, «Эльга», «Колмар», выстоят. Ограничение инвестиционной активности есть. Угольщики будут пережидать эти времена, прежде чем вкладываться в новые крупные проекты.
«Льготная ипотека для нас — это сакральная программа»
— Можно ли говорить о каких-то промежуточных итогах Сахалинского эксперимента по парниковым газам? Будет ли достигнута углеродная нейтральность региона к концу этого года? Какова вероятность распространения режима на другие регионы или всю страну по завершении эксперимента после 2028 года?
— Сахалин в этом году достигнет углеродной нейтральности. Если в 2020 году нетто-углеродный след по СО2 был 2 млн т, то к концу 2025-го это будет ноль. Они перевели угольные котельные на газ, перевели на газ транспорт. Сделали энергоэффективные фасады, наладили систему и сертифицировали подсчеты выбросов. Я думаю, что эксперимент будет тиражирован на всю страну.
— Насколько лесопропромышленная отрасль адаптировалась к экспортным ограничениям последних лет?
— Когда вводился запрет на экспорт кругляка, было много катастрофических предсказаний со стороны участников отрасли: «Мы сейчас самораспустимся». Этого не произошло. Отрасль адаптировалась и смогла выпускать продукцию с добавленной стоимостью, чтобы ее экспортировать.
Парадокс Дальнего Востока, да и вообще, наверное, всей российской лесной отрасли, заключается в том, что у нас леса очень много: 20% мирового леса, на Дальнем Востоке отдельно — 10%. При этом товарного леса не хватает. Его почему не хватает? Это очень легко понять, когда ты оказываешься на Дальнем Востоке. Там сопки, к которым нужно подъехать. Везде, где были дороги, лес уже давно вырубили. А новые дороги построить, так называемые лесные усы, — это дорого. Дороги и есть священный Грааль этой отрасли. Самые важные вопросы для отрасли сейчас — это цифровизация леса и переход на таксацию с помощью дистанционных методов зондирования, а также более глубокая переработка. Дерево — это традиционный строительный материал, но не хватает масштаба рынка. Есть небольшие бизнесы, но они не выходят на достаточный объем производства, чтобы сделать конкурентоспособную цену за метр, и, соответственно, нет массового спроса на их продукцию. А вообще, наверное, это был бы правильный стереотип Дальнего Востока — «свой деревянный дом».
— Идея с развитием деревянного домостроения не новая. Что мешает?
— Мы ставим себе это как задачу, но строительная отрасль очень консервативная. Мы радуемся нашим результатам — 5 млн кв. м жилья строится в год в ДФО, удвоение за шесть лет. Но миллионами метров деревянные дома сложно строить.
— У вас есть инструмент льготной дальневосточной ипотеки, который для всей части страны сейчас недоступен фактически.
— Да, льготная ипотека для нас — это сакральная программа. Она, во-первых, позволила привлечь уже почти 600 млрд руб. в строительную отрасль региона и купить квартиры 130 тыс. человек. И мы благодарны президенту за продление программы до 2030 года, несмотря на жесткие условия рынка.
— Как-то изменился портрет участника программы «Дальневосточный гектар»?
— На момент старта было чуть больше смельчаков, которые не до конца осознавали, что вообще-то это немаленький кусок земли и на нем работать нужно. Сейчас люди берут гектар более сознательно. Процентное соотношение по типу использования осталось прежним: 55% — это индивидуальное жилищное строительство. Еще четверть — это малый бизнес, туристические базы, спортивные центры, фермерские хозяйства.
— А у вас самого есть такой гектар по программе?
— У меня времени нет. Мне если участок выделить, то если только в самолете, в котором я практически живу.
— Насколько эффективно идет процесс расшивки узких мест в транспортно-логистических коридорах Дальнего Востока? Какие сложности остаются? С вводом в эксплуатацию инфраструктуры Восточного полигона РЖД в 2024 году уже стало понятно, как благодаря этому увеличились поставки грузов?
— Расширение Восточного полигона — это сложный и уникальный процесс, где нужно взять железную дорогу, по которой уже ходят 180 млн т груза в год, и при этом вести строительные работы. Что такое сейчас третий этап Восточного полигона? Был принят инвестиционный паспорт проекта — обеспечить 210 млн т перевозки к 2030-му и 270 млн т к 2032-му. Время быстро летит, и 2030-й через четыре с половиной года уже наступит. А построить нужно три тоннеля-дублера — Северомуйского, Кодарского и Кузнецовского — и новый мост. Использован новый финансовый механизм — EPC-контракт с отсрочкой платежа. Фактически это государственно-частное партнерство, мы это назвали дальневосточная концессия: возможность создать что-то сегодня, а заплатить за это в будущем.
Но проблема в том, что даже после ввода в эксплуатацию пропускной способности может не хватить, чтобы обслуживать все грузы. Новые инвестиционные проекты, которые заявляются, уже исчисляются десятками миллионов тонн. Поэтому определенная ограниченность, особенно в зоне погранпереходов, сохранится. В какой-то момент от нас потребуются решения о ремаршрутизации товарных потоков. Вероятно, не навсегда же закрыты юго-западные, северо-западные логистические коридоры, и Дальний Восток в этом смысле будет сбалансирован.
«Прошлое может быть не очень хорошим подсказчиком будущего»
— Сложилась ли окончательно финансовая модель города-спутника Владивостока? Последняя оценка, которую вы давали, — это 970 млрд руб.
— Мы оценили вообще градостроительный потенциал, и это 7 млн кв. м жилой недвижимости на 200 тыс. человек. Сейчас идет заключение договоров на обеспечение его инфраструктурой. Реализация проекта продлится примерно до 2055 года. Но уже сейчас в рамках территории, которую мы называем «спутником Владивостока», частными девелоперами реализуется 12 проектов более чем на миллион метров. Поэтому органически он потихонечку растет. «Форсаж» этому проекту удастся придать, когда процентная ставка будет в более удобоваримом диапазоне. При процентной ставке 27% сложно начинать такие масштабные инфраструктурные проекты.
— Какую ставку вы считаете комфортной и к какому уровню она может вернуться в ближайшие годы?
— Я боюсь, что здесь прошлое может быть не очень хорошим подсказчиком будущего. Есть мнение, что период низких процентных ставок был аберрацией и постепенно мировая экономика из него будет выходить. Что такое цена капитала? Это вера в то, что денежная масса через десять лет сильно не вырастет и купленные сегодня $100 будут стоить $110–120. Но это же не так. Центробанки увеличили денежную массу за кризис 2008-го, пандемию. Денег в системе стало значительно больше. Это все транслировалось в огромные капитализации. У нас появились компании, которые стоят триллионы долларов. У нас скоро люди появятся триллионеры, да? Илон Маск, наверное, уже недалеко от этого.
Может ли что-то остановить этот процесс? Пенсионная система развитых стран дефицитна, то есть они уже обязательства по пенсиям свои не выдержат. Долговая нагрузка крупных экономик — от 100% ВВП в США до 300% в Китае и Японии. Единственный способ из этого всего выбраться — это ускорить инфляцию. Как? Когда инфляция за счет людей-сберегателей оплачивает долги предыдущих поколений. Я думаю, так или иначе это, к сожалению, произойдет. Это уже происходит в виде пузыря цен на рынке недвижимости, на рынке активов, на рынке роскоши. Может быть, естественный темп инфляции будет не 2%, как сейчас считается, а, например, 10%. А если у вас инфляция 10%, процентная ставка 15%, то реальная ставка получается 5% — можно жить, бизнес сможет зарабатывать. Сегодня, конечно, при статистической инфляции 10% платить банкам 27% почти никакой бизнес, кроме спекулятивного, не выдерживает.
— Так, может, уже и в России стоит поднять целевой ориентир по инфляции с 4%?
— Все решения денежно-кредитной политики, которые есть, они работают. Я успел побыть пионером в СССР и хорошо помню, во что в начале 1990-х превратились сбережения моих бабушек и дедушек, которые всю жизнь работали. Инфляция — это очень большая страшилка для российского общества. Надо понимать, что мы, может быть, и будем дуть на воду, но это оправданно в наших условиях. Ни одну страну высокая инфляция не привела ни к чему хорошему.
В целом же я, если говорить об экономических убеждениях, неокейнсианец. То есть я считаю, что инвестировать нужно опережающим темпом. Хороший пример — это Саудовская Аравия. У них за десять лет уровень госдолга вырос с 5% ВВП до 35% ВВП, а капитализация фондового рынка — с 60 до 350%. Они стали делать футуристические проекты, города в пустыне и так далее. Но они все-таки «моноэкономика», хотя и пытаются диверсифицироваться.
— При каких условиях бизнес вернется с «отсиживания» на депозитах к модели инвестирования?
— Для модели инвестирования нужна культура инвестирования. Культуру инвестирования воспитывают в том числе методом проб и ошибок. Когда я занимался инвестициями, то главный вопрос, который я задавал кандидатам на роль аналитиков, был: «Где вы теряли? Где вы проиграли?» Человек не может заниматься инвестициями, если он ни разу нигде не проигрывал. Самый известный современный инвестор — Уоррен Баффетт — отошел от дел буквально недавно, после 60 лет управления компанией, которая выросла на 10 млн процентов. Он инвестировал в бизнесы, которые были недооценены и приносили хорошую прибыль. Это и есть созидательный бизнес — брать и создавать добавленную стоимость.
Мы достаточно глубокая и большая экономика для того, чтобы у нас был свой «зоопарк единорогов» и свой набор компаний среднего бизнеса — «газелями» их раньше называли. Но нужно выходить и за пределы своего рынка. Мы немного в ловушке: Россия достаточно большая, чтобы компании работали только на российский рынок, но недостаточно большая, чтобы, только работая на нашем рынке, производить конкурентоспособный товар в мировом масштабе. Здесь у маленьких стран есть преимущество. Например, работая в Израиле или Дании, ты никогда не станешь большим, работая только на внутренний рынок. Ты всегда сразу делаешь экспортный товар. В России у тебя не всегда первая мысль работать на экспорт. А мировая конкурентность, она все-таки экспортная.
Отличный пример Китая, который я неоднократно приводил, — сделать внутри очень круто и затем экспортировать. Мы это видим по автопрому, электронике, технологическим решениям. Это культура созидания, и из-за санкций она сейчас проявляется: мы видим российские товары хорошего качества, которые вполне могут в свое время конкурировать на мировом рынке.
— Исходя из вашей концепции «служителей и созидателей», есть ли в России такие бизнесмены, сформировался ли такой класс?
— Я говорю про идеальную, если хотите, целевую модель созидания в экономике. Это союз государства и бизнеса: бизнес без государства не может конкурировать в современных условиях, тем более в такой стране, как Россия. Если говорить про служителей, то я сам после 20 лет в бизнесе пришел на государственную службу. И что я увидел? Что многие стереотипы уже устарели. На самом деле «современный чиновник» — это, как правило, тот же менеджер, только работает больше, получает меньше, но решает более интересные задачи. В этом смысле госслужба выигрывает у бизнеса всухую.
С точки зрения «созидателей» происходит поколенческий сдвиг: еще 10–15 лет назад были свежи в памяти истории быстрых денег. Первые кооперативы, «перестройка», 1990-е — люди делали большое состояние буквально за год-два. Это был бизнес, но не созидание. Созидание — что-то новое создать. Согласитесь, что гораздо ценнее знать, как добыть баррель нефти с себестоимостью $20, чем знать, где купить и кому продать. Спекулятивный фактор — он тоже важен в экономике, поскольку это ликвидность. Но это не может подменять созидание.
Говоря о служителях и созидателях, я задумывался о том, как вообще мы как общество, как государство можем конкурировать на мировом рынке. Как в Олимпийских играх — быстрее, выше, сильнее, так и в бизнесе — дешевле, эффективнее, более привлекательно для потребителя. Много примеров, где мы такими можем быть.
Я, например, сильно не согласен с риторикой про ресурсный придаток и что ресурсы — это плохо. Просто знаю, что, например, добывать газ, или медный концентрат, или золото — это сложный технологичный бизнес, как правило, с маржой 50–60%, с мощным инфраструктурным развитием, с высокими зарплатами. Чего здесь стесняться? Посмотрите на Америку сегодня: они по объемам СПГ выросли в 12 раз за 8 лет. И вообще многие сегодняшние геополитические разломы — это битва за рынок энергии. Это Америка, которая взяла Европу, отключила от нашей трубы и подключила к своей. Они из 70 млн т СПГ в год хотят выйти на 200 млн т. Перемножьте на $500 за тонну и получите прибыль американской экономики в $100 млрд в год. То есть настоящий созидатель — человек, которому интересен процесс создания, и цель его в том, чтобы что-то создавать. Есть такая поговорка в бизнесе: «Сделай лучшую мышеловку, и мир проложит дорогу к твоему дому».
Читайте РБК в Telegram.