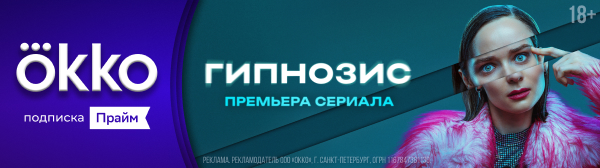Европа пессимистов: почему граждане стран ЕС хотят вернуться в прошлое
Европейские лидеры, съезжающиеся на саммит в Рим, чтобы вспомнить о том, как когда-то все начиналось, будут, помимо исторических реминисценций, искать ответ на вопрос, который принято считать русским: что делать? Римская встреча посвящена не только юбилею соглашений, которые были подписаны там же 60 лет назад и положили начало европейской интеграции, но и вещам более злободневным — тому, как вдохнуть новую жизнь в Европейский союз.
От рынка к империи
Римский договор 1957 года создал «Общий рынок» — единое экономическое пространство на тот момент всего лишь шести стран: Бельгии, Западной Германии, Италии, Люксембурга, Нидерландов и Франции. Это был старт интеграции, разговоры о которой шли с первых послевоенных лет. На руинах едва не уничтоженной Европы многим политикам стало ясно, что в мире холодной войны единственная возможность для демократических стран Старого Света жить в мире и развиваться — это их взаимное сближение. Оно началось и успешно продолжалось, пережив и холодную войну, и распад СССР и сделав было Европейский союз, существующий в его нынешнем виде около 25 лет, самым успешным наднациональным проектом современной истории.
Успех — очень важное слово для понимания того, что происходит сейчас с Европой. Она очень привыкла к успехам. Несколько десятилетий бурного хозяйственного роста, вхождение в тройку ведущих экономик мира, мир и благополучие — особенно в сравнении с тем, что творилось на юге и востоке от границ ЕС, — могут не то чтобы приесться, но начать казаться состоянием естественным и неизменным. И тут вдруг успехам приходит конец. Именно это произошло с Евросоюзом во второй половине минувшего десятилетия. Вначале вошли в противоречие между собой два двигателя евроинтеграции — прагматизм и идеализм. Чем успешнее казался интеграционный проект, тем сильнее идеал «Соединенных Штатов Европы» — наднационального объединения, фактически новой, демократической империи, расширяющей пространство либерализма все дальше и дальше, — оттеснял на задний план куда более скромные представления о сотрудничестве и взаимовыгодной торговле в рамках «Европы отечеств», лежавшие в основе Римских соглашений.
Европейские лидеры увлеклись и перестали обращать внимание на детали, в том числе весьма существенные. Так возникла «скособоченная» еврозона, где общее валютное пространство не было дополнено единой финансовой политикой. Так начались греческие бухгалтерские «чудеса», ставшие триггером долгового кризиса. Так вопреки явному сопротивлению большинства граждан ряда стран был принят Лиссабонский договор — фактическая конституция Евросоюза, взявшего курс на превращение в федерацию. Потом ударил мировой экономический кризис — и Европа стремительно перешла из эры успехов в период кризисов, длящийся уже почти десятилетие.
Надо заметить, что с точки зрения истории аномалией кажется скорее долгий период европейского благополучия и поступательного развития (предыдущий такой был в последней четверти XIX века), чем нынешние проблемы. Тем более что, если присмотреться, пока Евросоюз справляется с ними не так уж плохо. Ни один из катастрофических прогнозов, часто звучавших в последние годы, не сбылся. Масштабы экономического спада, который пережила Европа в 2009–2012 годах, не идут в сравнение не только с Великой депрессией, но и со многими проблемами 1970-х годов. Ирландия выбралась из долговой ямы, Испания и Италия, покачавшись на краю, в нее не упали. Самый тяжелый «пациент», Греция, обречен на многолетнее безрадостное выкарабкивание из долгового болота, но это не идет в сравнение с той национальной катастрофой, которую со всех сторон пророчили Греции пару лет назад.
Поток мигрантов с Ближнего Востока, переполошивший европейцев в 2015-м, годом позже резко пошел на спад. Правда, тут слишком многое зависит от соглашения ЕС с Турцией, которая стала совсем непредсказуемым и крайне нервным партнером. В подвешенном состоянии оказался и украинский кризис — но и это опять-таки не худший для Европы исход, если вспомнить ту панику, которая царила во многих столицах ЕС весной и летом 2014 года в связи с аннексией Крыма и «русской весной». Санкции против России, введенные в связи с украинскими событиями, куда сильнее отразились на российской, чем на европейской, экономике — и в этом смысле Европа при перетягивании политического каната с Москвой держит более длинный его конец. Запас прочности европейского проекта оказался достаточным для того, чтобы перевести несколько острых и опасных кризисов в вялотекущую фазу — с перспективой их постепенного разрешения. Это не назовешь блестящим успехом, но это и не поражение.
Shitstorm
Как ни странно, европейское общественное мнение этого почти не замечает. Нынешняя Европа — Европа пессимистов, и именно это, возможно, в большей степени, чем реальное положение дел, несет главную угрозу европейскому проекту. Вероятно, это связано со спецификой современного информационного пространства. Как пишет в немецком журнале Die Zeit публицист и аналитик Бернд Ульрих, мы живем в обстановке «непрерывного shitstorm’a: то, что не является депрессивным и угрожающим само по себе, оплюют и высмеют избалованные ворчуны в интернете». Заразительность дурного настроения в эпоху социальных сетей возросла многократно, и мало где это заметно так, как в технологически развитой Европе. Оптимизма не прибавляют и частые теракты, напоминающие об изнанке былых европейских успехов — нерешенности многих социальных и религиозных проблем, крахе мультикультурализма, проблемах с обеспечением безопасности.
Тревога по поводу того, что золотой век Европы ушел навсегда, в не меньшей мере, чем сами сегодняшние трудности, ведет к смене политических предпочтений. Brexit — самый яркий результат происходящих перемен. Как и избиратели Дональда Трампа в США, многие европейцы чувствуют себя несправедливо «забытыми» либеральной элитой и встревоженными концом многих привычных реалий. Отсюда — стремление вернуться в прошлое с его растущей экономикой, более этнически и культурно однородным обществом, отсутствием чрезмерной политкорректности и относительной изоляцией от далеких и опасных соседей по планете. Отсюда — растущая поддержка националистов и популистов.
Позитивной программы у большинства нынешних популистов нет, их требования — следствие и воплощение европейского пессимизма. Это не значит, что за ними нет реальности, а в их предложениях — определенного смысла. Напротив, вполне вероятно, что популисты надолго станут частью политического пейзажа Европы, очевидно желающей больше безопасности, протекционизма и некоторой изоляции. Угрожает ли это Евросоюзу и демократии как таковой? Ответ зависит от того, какой ответ на популистский вызов дадут его противники. Иногда этот ответ может быть удачным и привлекательным, как показали недавние президентские выборы в Австрии и парламентские — в Нидерландах.
Как отмечает британский политолог, специализирующийся на проблемах евроинтеграции, Тимоти Гартон Эш, «отправной точкой должно стать ясное понимание того, какие именно последствия, какие экономические и социальные аспекты либерализма вызвали отчуждение множества людей, которые в настоящее время голосуют за популистов. После того как будет поставлен правильный диагноз, нужно будет придумывать новую политику и доступный язык для этой политики, заново завоевывая доверие недовольных избирателей». Мир и благополучие послевоенной Европе принесла политическая культура диалога, на которой и был построен интеграционный проект. На нее остается надеяться и сегодня: из диалога пессимистов и оптимистов рождается реализм.