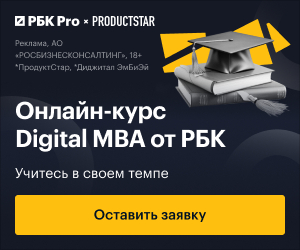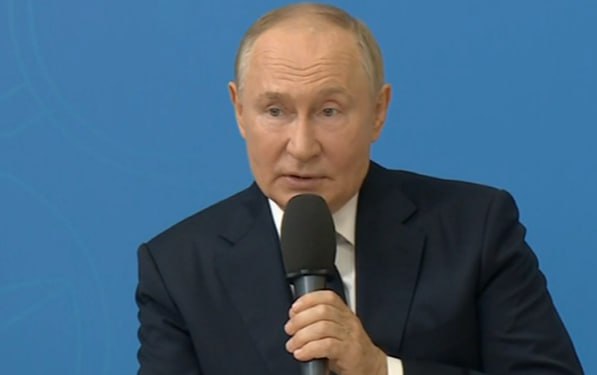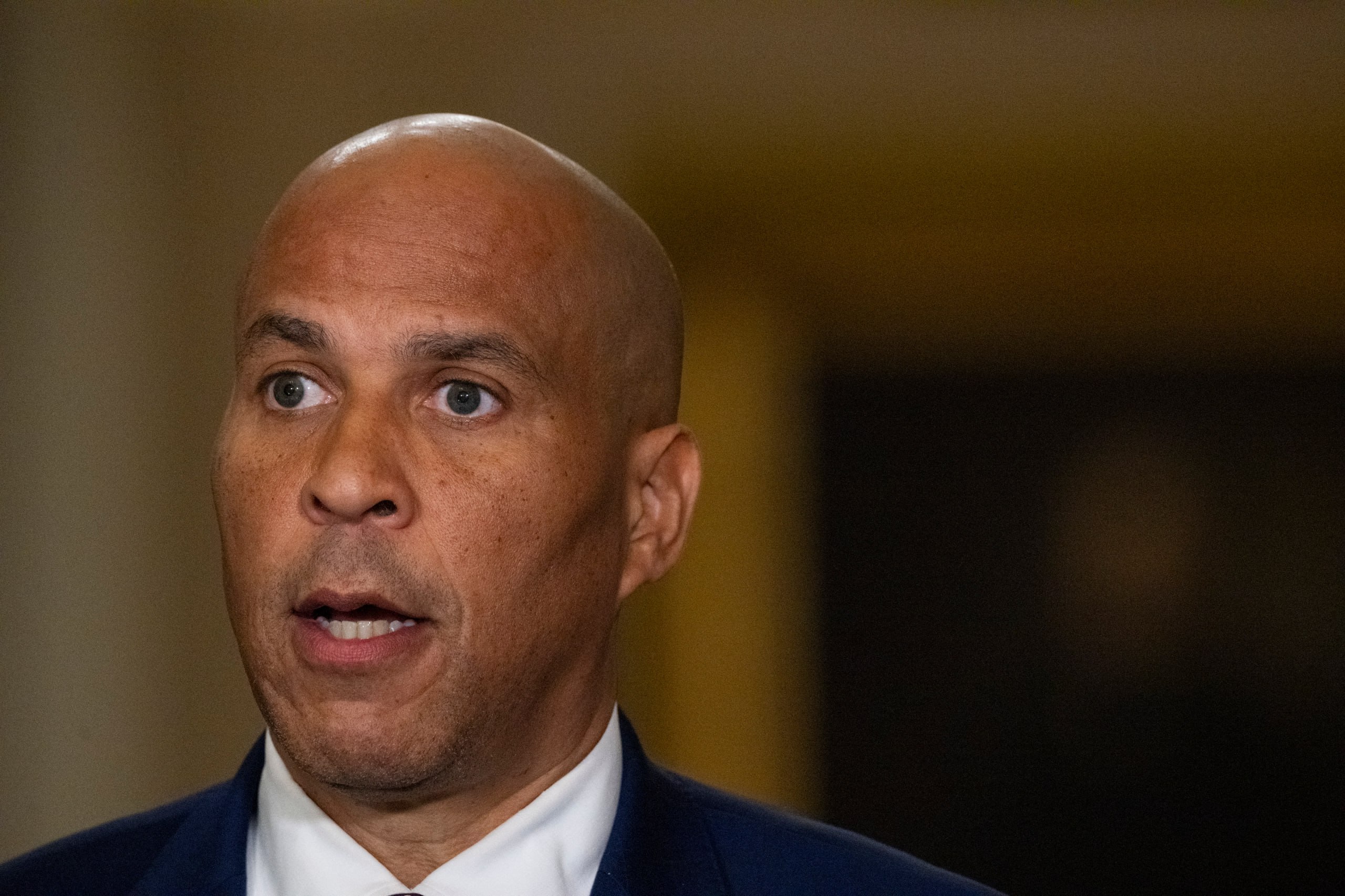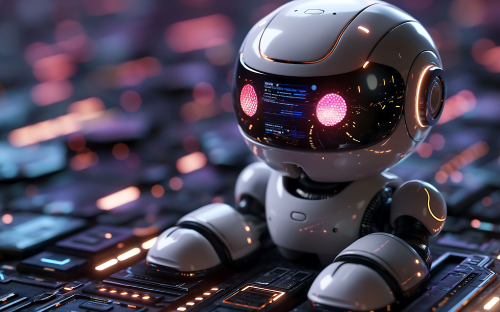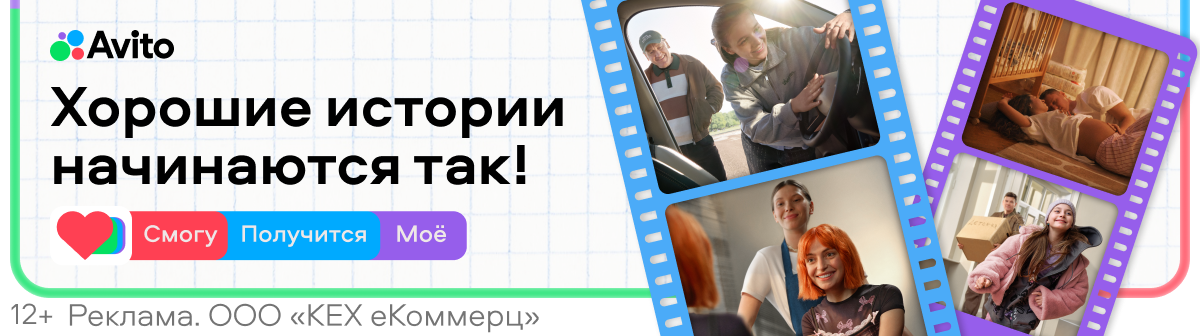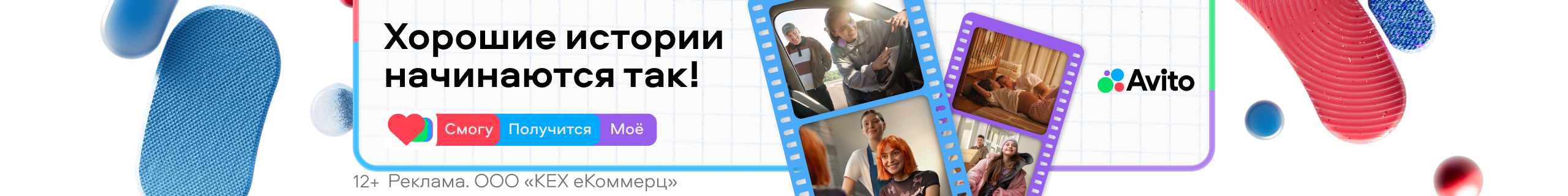Эксперты описали стратегию российского СПГ на фоне риска эмбарго Европы
Какие страны и почему могут стать альтернативой для поставок топлива
Диверсификация поставок сжиженного природного газа (СПГ) становится все более актуальной задачей для российских экспортеров, которые рискуют столкнуться с прекращением закупок со стороны Евросоюза. Согласно исследованию Reksoft Consulting, с которым ознакомился РБК, к 2030 году Россия может перенаправить на альтернативные Европе рынки минимум 35,2 млн т СПГ с новых и действующих заводов. Однако экспорт более 40 млн т при потенциале 65 млн т в год в этот период вряд ли возможен.
Пока европейские власти, нацеленные к 2027 году прекратить импорт газа из России, отложили публикацию плана по отказу от российского топлива. Однако риск остается, и, чтобы в будущем не снижать загрузку производств и не ставить под удар их экономическую эффективность, отечественные компании уже сейчас должны искать новых покупателей, создавая с ними гарантированные связи, либо принять решение по перепрофилированию части мощностей под продукцию газохимии.
Делать это придется в условиях переизбытка предложения СПГ на мировом рынке в связи с появлением большого числа новых заводов. По оценкам Reksoft Consulting, к 2030 году предложение может вырасти примерно в 1,5 раза к уровню 2024 года, а в период 2025–2030 годов ежегодно увеличиваться на 6–8%. Потребление СПГ в мире при этом будет расти не более чем на 3,2% в год. Таким образом, к концу десятилетия разбалансировка рынка станет очевидной и с большой долей вероятности окажется более глубокой и продолжительной, чем в 2019–2020 годах.
Сколько СПГ экспортирует Россия
Экспорт СПГ из России в 2024 году вырос на 4% по сравнению с 2023 годом, до рекордных 33,6 млн т. Предыдущий максимум — 32,9 млн т — был зафиксирован в 2022 году. При этом около 17,4 млн т, или 52% всего объема, пришлось на рынок Европы. Это на 4 процентных пункта (п.п.) больше, чем в 2023-м.
СПГ из России экспортируют несколько крупно- и среднетоннажных предприятий: «Сахалин-2» и «Газпром СПГ Портовая» (контролирует «Газпром»), а также «Ямал СПГ» и «Криогаз-Высоцк» (контролирует НОВАТЭК). В конце 2023 года первый СПГ был получен на проекте «Арктик СПГ 2», но официально о поставках с завода не сообщалось.
На этом фоне «распределение российского СПГ по альтернативным рынкам сбыта, скорее всего, не позволит монетизировать весь дополнительный объем, который к 2030 году может составить около 44 млн т в год», констатируют эксперты. В эту оценку входят 18 млн т «европейского» газа и 26 млн т газа с новых мощностей в России. В частности, к 2030 году «Газпром» планирует запустить производство СПГ в Усть-Луге на 13 млн т, а НОВАТЭК — завод «Арктик СПГ 2» мощностью 19,8 млн т, из которых 6,6 млн т третьей технологической линии не учтены в расчетах экспертов в связи с неопределенностью сроков ее создания.
В итоге суммарный минимальный объем российского СПГ, который может к 2030 году экспортироваться вне Европы, составит около 35,2 млн т в год, пишут эксперты в обзоре. «В базовом сценарии возможно наращивание экспорта до 40 млн т в год. Поставки более 40 млн т в год (до 65 млн т при 100-процентной загрузке мощностей СПГ-заводов) возможны только при реализации определенных внешних факторов либо в случае активного участия российских экспортеров в развитии центров спроса за рубежом, что подразумевает реализацию интегрированных проектов», — прокомментировал РБК Сергей Ермилов, менеджер практики «Стратегия» Reksoft Consulting.
Какие есть альтернативные рынки
Россия может перенаправить СПГ на рынки Азии, Африки и Латинской Америки, говорится в обзоре. В частности, в Восточной Азии есть потенциал поставлять до 53% из минимально возможных объемов к 2030 году, то есть 18,5 млн т. Однако до 95% всех отгрузок будет обеспечено спросом со стороны Китая, в то время как экспорт в остальные страны и территории (Япония, Южная Корея, Тайвань) либо полностью прекратится, либо снизится до минимальных значений — менее 1 млн т в год. Среди угроз в этом регионе эксперты перечисляют ускоренное развитие ВИЭ, сохранение роли угля в Китае, увеличение там трубопроводного импорта и замедление темпов экономического роста (включая Тайвань), а также возврат к атомной генерации в Японии. Кроме того, вероятно увеличение закупок североамериканского газа Японией, Южной Кореей и Тайванем, в том числе из-за угроз дополнительных пошлин США.
На Южную Азию, где потенциальными потребителями выступают Индия, Пакистан, Бангладеш и Шри-Ланка, может прийтись 8,5 млн т СПГ в год (24% минимальных объемов). Но наиболее перспективным рынком для развития экспорта является именно Индия, у которой есть все шансы закупать на мировом рынке до 59,4 млн т к 2030 году, выйдя тем самым на второе место в мире после Китая по импорту СПГ. При этом, по мнению экспертов, основными угрозами поставкам сжиженного газа в этом регионе являются чувствительность потребителей к ценам, высокая конкуренция угля, снижение спроса на газ из-за ухудшения макроэкономики. Кроме того, для всех этих стран характерна высокая зависимость от импорта СПГ из Катара: QatarEnergy обеспечивает от 56% годовой потребности в поставках в Индию до 100% в Пакистан.
Ожидается, что в 2025–2030 годах наиболее быстрорастущим рынком СПГ станет Юго-Восточная Азия (страны АСЕАН). Сюда Россия может направить 5,5 млн т СПГ, или 16% минимального объема. Среди этих стран потенциально крупными импортерами российского СПГ могут стать Вьетнам и Таиланд (до 2,4 млн и 1,6 млн т соответственно). Еще до 1 млн т экспортеры могут поставлять в Мьянму при условии стабилизации внутриполитической ситуации, сохранения у власти дружественного правительства и восстановления СПГ-инфраструктуры. При этом среди наиболее значимых рисков на этом рынке в Reksoft Consulting видят возможный рост собственной добычи газа, смену стратегического фокуса на ВИЭ-генерацию, увеличение закупок американского СПГ странами с профицитным торговым балансом (в частности, Вьетнам).
Еще примерно 0,8 млн т (2% минимального объема) Россия к 2030 году может направить в страны Африки, около 0,6 млн т (2%) — на рынки Латинской Америки и порядка 1,2 млн т (3%) в прочие страны, в частности Турцию и Кувейт. Однако Африка и Латинская Америка «могут рассматриваться только как второстепенные рынки сбыта, с потенциальным объемом отгрузок не более 1 млн т в год», отмечают эксперты. В частности, в Африке, где пока еще нет принимающей инфраструктуры, но есть соответствующие планы, совокупный спрос на СПГ к 2030 году может составить около 12 млн т в год. Но среди рисков перечисляются смещение фокуса на ВИЭ (особенно в Марокко), возможный перенос сроков ввода терминалов, экономические трудности и сохранение роли угля как основного источника энергии. Что касается рынков Латинской Америки, то перспективы роста спроса на СПГ здесь незначительные, а само потребление носит ярко выраженный сезонный характер. Наиболее же значимым изменением может стать выход Аргентины на самообеспечение по газу в 2025–2026 годах и даже превращение страны в экспортера.
Таким образом, в перспективе экспорт российского газа с большой вероятностью еще больше замкнется на Китай, заключают в Reksoft Consulting. «Для того чтобы избежать прямой конкуренции российского трубопроводного газа с российским СПГ, отгрузки последнего можно осуществлять в наиболее удаленные от российско-китайской границы юго-восточные центры, такие как Гонконг, Гуанси-Чжуанский автономный район, провинции Гуандун и Фуцзянь», — предлагают эксперты.
Какую стратегию необходимо разработать
Для обеспечения стабильного экспорта российского СПГ и загрузки новых и будущих заводов в условиях вероятного сокращения или полного прекращения продаж в страны ЕС необходимо разработать комплексную программу стратегических инициатив, считают в Reksoft Consulting. Она должна объединить в себе усилия крупнейших экспортеров и федеральных органов власти, считают в Reksoft Consulting.
Первостепенным направлением такой стратегии должна стать диверсификация рынков сбыта и заключение сети меморандумов с дружественными странами глобального Юга. Одновременно необходима работа в направлении интегрированных проектов с разветвленными цепочками сбыта СПГ. Например, возможно участие в строительстве электростанций по модели LNG-to-power (генерация электричества из СПГ), заводов по производству удобрений в странах с развитым сельскохозяйственным производством, развитие крупнотоннажного и городского транспорта на СПГ и КПГ (компримированный природный газ).
Вместе с тем требуется привлечение российских инвестиционных банков для организации проектного финансирования СПГ-проектов, в частности приемных терминалов, связанной инфраструктуры и других объектов. Также важно повысить привлекательность долгосрочных контрактов на поставку СПГ за счет отказа от фиксации портов назначения, что является слабым местом Катара, и перехода к более гибким моделям ценообразования. Речь может идти о привязке к спотовым ценам и включении положений о возможности пересмотра ценовых условий при реализации определенных событий на рынке.
Наконец, возможно рассмотреть перепрофилирование части мощностей будущих проектов под производство аммиака, метанола и водорода. «Учитывая, что азотные удобрения, в состав которых входит аммиак, и продукты газохимии на текущий момент не находятся под санкциями, строительство многопрофильных газохимических комплексов по примеру Обского ГХК может стать эффективным решением для монетизации дополнительных объемов газа», — заключают эксперты.
Когда будет введено эмбарго
Несмотря на отсрочку публикации «дорожной карты» ЕС по отказу от российского топлива, не стоит расценивать это как позитивный сигнал, отмечает Мария Белова, директор по исследованиям компании «Имплемента». Если не произойдет комплексного урегулирования отношений Евросоюза и России, то полное или частичное эмбарго возможно уже через год, с весны—лета 2026 года, считает директор по исследованиям Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев. «Вариант введения эмбарго на российский СПГ по-прежнему реалистичен и с точки зрения сроков возможен в 2026–2027 годах, когда глобальный рынок сжиженного газа будет насыщен новыми объемами из США и Катара», — объясняет Белова.
По мнению Белогорьева, возможность «пристроить» все доступные к производству в России объемы зависит от трех неизвестных: насколько профицитным будет общий баланс на мировом рынке СПГ к моменту эмбарго, какими будут среднерыночные цены, что важно для спроса со стороны небогатых стран, и что будет с санкциями США. «Если последние останутся, то перенаправить потоки на другие рынки будет сложно. В отличие от рынков нефти и нефтепродуктов, покупатели по-прежнему боятся иметь дело с подсанкционным СПГ, что хорошо видно по проблемам с разгрузками немногочисленных рейсов «Арктик СПГ 2», — говорит эксперт.
Но даже в случае менее вероятного сценария, когда Европа вводит эмбарго, а США не расширяют или даже снимают часть санкций, «найти новые экспортные ниши взамен Европы будет задачей нетривиальной». Россия за пределами Северо-Восточной Азии и европейского рынка — почти не известный поставщик, к которому еще будут присматриваться. При этом средние расстояния транспортировки станут в три раза выше, что заведомо ведет к дефициту флота и дополнительным издержкам, предупреждает Белогорьев. Поэтому основными целевыми рынками являются Индия, Пакистан, Бангладеш и страны Юго-Восточной Азии, считает эксперт.
Однако, чтобы проникнуть в эти перспективные регионы, скорее всего, придется довольно сильно демпинговать, рассуждает Белогорьев. «Что-то может дополнительно принять на себя КНР, но вряд ли много», — полагает он. Большинство российских проектов являются конкурентоспособными, но в условиях обострения борьбы за рынки экспортерам из России, как и многим другим, придется предлагать более привлекательные для покупателя цены, согласна Белова. Она напоминает, что Катар уже сегодня контрактует СПГ для Индии с достаточно низкими коэффициентами в ценовой формуле. «Альтернативой при переговорах с покупателями является, например, строительство инфраструктуры по приемке газа в стране и участие в строительстве газовой генерации, которая в будущем обеспечит надежный спрос», — также считает она.
Как вариант, поспособствовать экспорту СПГ из России и, соответственно, более высокой загрузке заводов могло бы замедление темпов внедрения ВИЭ и развития собственных газовых месторождений в Восточной и Юго-Восточной Азии, рассуждает Ермилов. Такой же эффект способна оказать корректировка национальных энергетических стратегий во Вьетнаме и Таиланде в сторону наращивания доли газа и импорта СПГ. «Однако это вероятно только в случае существенного снижения цен на СПГ к концу 2020-х годов», — замечает он.
Возможны и такие неизвестные, как реализация стрессового сценария в Восточной Азии. «Например, в 2011 году резкий рост спроса на СПГ спровоцировала катастрофа на АЭС «Фукусима». Тогда Япония, Южная Корея и Тайвань начали консервировать энергоблоки АЭС и в спешном порядке вводить в эксплуатацию газовые электростанции», — рассказывает Ермилов. Подтолкнуть спрос к росту может и повышение прогнозов по развитию новых направлений потребления СПГ, таких как бункеровка (актуально для Сингапура), или генерации электроэнергии из СПГ на высокотехнологичных производствах в Китае, включая Тайвань, Южной Корее, Таиланде и Сингапуре. Речь в данном случае может идти о строительстве центров обработки данных (ЦОД), производстве полупроводников и прочих подобных направлениях промышленности.
РБК направил запрос в Минэнерго.
Читайте РБК в Telegram.